Вернуться в главный зал крафт-бара.
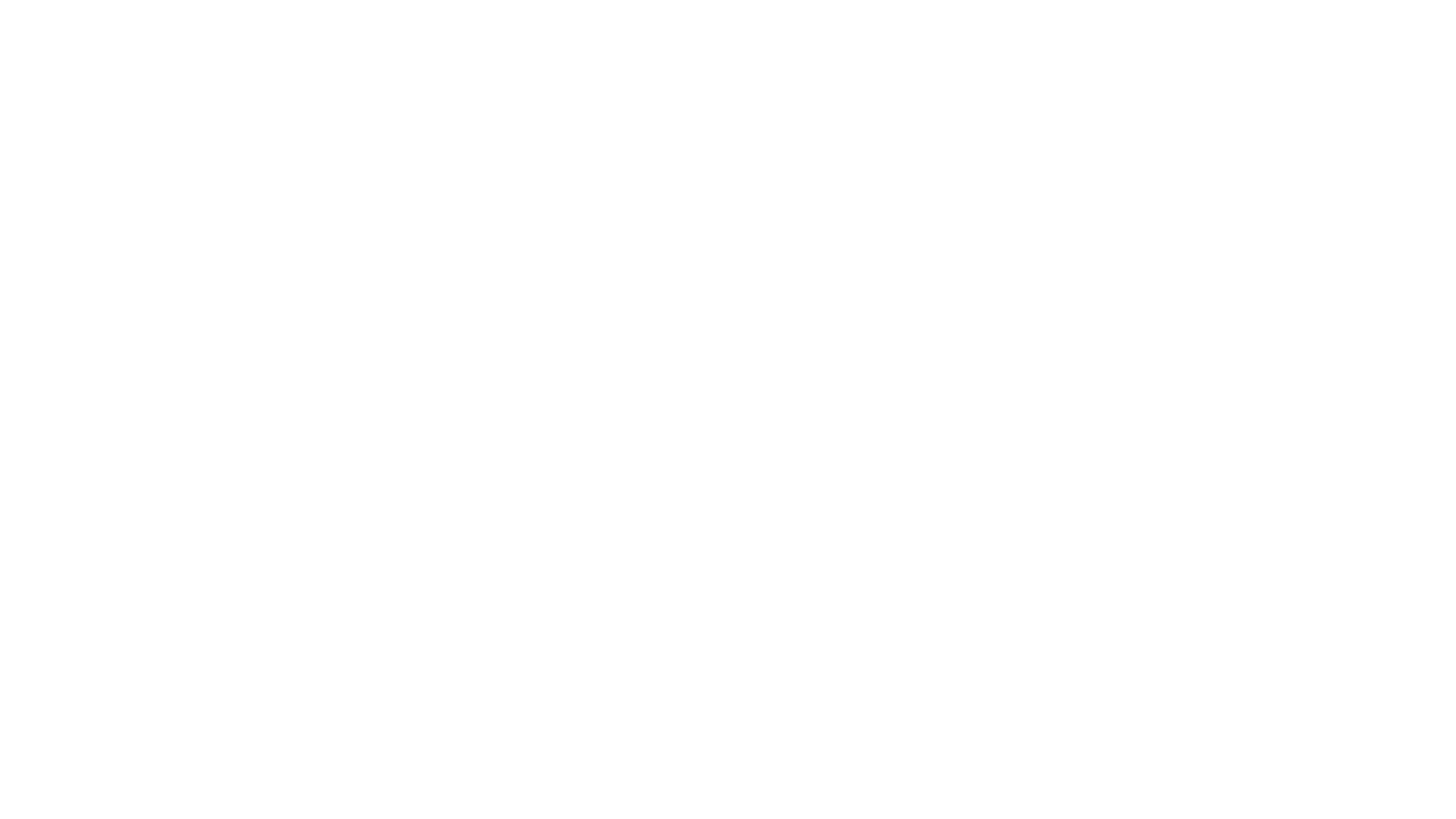
Начало XX века. В особняке рядом с московским храмом открывают театр. Несмотря на сопротивление духовенства, здание удаётся занять эксцентричному режиссёру-мистику и его утончённо-мрачноватой супруге-актрисе. Глава театра стремится создать что-то доселе невиданное, связанное с древними языческими культурами. Насколько верны будут предупреждения священника, которые приняли за бред ретрограда, о демонической сути лицедейства?
1914
– Прекрасное место! Восхитительное! Убирать ничего не будем – только перестраивать! Этот зал станет легендарным!
Статный мужчина с зализанными назад волосами ходил туда-сюда через проёмы анфилады, экзальтированно делая пассы руками. Двадцатилетний сын ямщика, глядевший на это, не знал слова «экзальтированный», однако суть уловил верно, сразу подметив, что гость чудаковат.
«Какой-то известный артист», – быстро понял Тимофей. Парень играл в текущей сцене роль, близкую к декорации, пока цепкий взгляд чудака не упал на него.
– Вот, пусть человек из народа скажет, что здание сие приспособлено под театр более, чем под скучную бухгалтерию и военщину!
Парень невыразительно покивал. На встречу с покупателями его пригласил домовладелец, один из братьев-купцов, который сейчас выслушивал речи гостя. Тимофей умел строить и чинить, трудился он при храме, практически примыкавшем к особняку. Простецким умом работяга чувствовал: хозяин дома не горит желанием ввязываться в авантюры творческих личностей. Однако господин в тёмно-сером пиджаке был поразительно настойчив.
Чёрная дубовая дверь распахнулась, в комнату влетела сырость и прелый запах осенних листьев. А за ними – незнакомая женщина и следующий (бегущий?) за ней пожилой священник. Батюшку работник знал уже пять лет, ничего интересного, а вот дамой он сходу залюбовался. Не сказать, что она была обворожительно красивой, однако производила впечатление ожившей статуи какой-нибудь древней княгини или волшебницы. Платье цвета запекшейся крови обтягивало отнюдь не выдающиеся формы, однако это не смотрелось недостатком, более того – придавало гостье величественный вид. Лик дамы был бледен в пику чёрным вьющимся волосам и густой подводке глаз. Вместе с восхищением Тимофей испытал… страх?
– И вовсе это не кощунство, святой отец! Мы ведь не посягаем на ваш храм! – явно продолжая начатый ранее разговор, сказала дама, обернувшись к настоятелю.
В этот момент чудаковатый господин посмотрел на неё, и взгляд его не оставлял сомнений, что эти двое близки.
– Да где это видано на Руси, чтобы плясавища рядом с храмом Божиим ставили? – парировал священник.
– Но ведь мы не преступники! Политически не агитируем, кровопролития и разврата на сцене не допустим. Любовные сцены – да, но это ведь красиво!
Женщина состроила жалобное лицо, будто была готова разрыдаться. «Насколько это искренне, учитывая её профессию?» – призадумался Тимофей.
– Дело театральное само по себе демонское, – устало сказал настоятель, – ещё в первые века отцы строго постановили...
– Послушайте, отче, – выступил вперёд домовладелец, своим пухловато-добродушным видом несколько понижавший уровень драмы, – я думаю, уважаемым господам всё же стоит дать попробовать. Как-никак Духовный регламент допускает зрелищные искусства в нашей державе. К вам, отче, просьба лишь одна: помочь с работниками для монтирования сцены, декораций и всего прочего.
Тимофей чуть подался вперёд: «Да, это я!»
Под уговорами хозяина дома священник неохотно сдался. Тимофею стало жалко своего теперь уже бывшего работодателя. Однако эти тилигенты-актёришки внушали ему надежду на повышение жалованья, да и соприкосновение с миром искусства как-то притягивало.
«Театр Мистерий – не просто театр, а сочетание игры, музыки, танца, красок! В пику сухой мещанской возне и условной расплывчатости!»
Тимофей понял не всё, но одно – точно: расхвалить себя языкастый режиссёр был не дурак.
– Прекрасное место! Восхитительное! Убирать ничего не будем – только перестраивать! Этот зал станет легендарным!
Статный мужчина с зализанными назад волосами ходил туда-сюда через проёмы анфилады, экзальтированно делая пассы руками. Двадцатилетний сын ямщика, глядевший на это, не знал слова «экзальтированный», однако суть уловил верно, сразу подметив, что гость чудаковат.
«Какой-то известный артист», – быстро понял Тимофей. Парень играл в текущей сцене роль, близкую к декорации, пока цепкий взгляд чудака не упал на него.
– Вот, пусть человек из народа скажет, что здание сие приспособлено под театр более, чем под скучную бухгалтерию и военщину!
Парень невыразительно покивал. На встречу с покупателями его пригласил домовладелец, один из братьев-купцов, который сейчас выслушивал речи гостя. Тимофей умел строить и чинить, трудился он при храме, практически примыкавшем к особняку. Простецким умом работяга чувствовал: хозяин дома не горит желанием ввязываться в авантюры творческих личностей. Однако господин в тёмно-сером пиджаке был поразительно настойчив.
Чёрная дубовая дверь распахнулась, в комнату влетела сырость и прелый запах осенних листьев. А за ними – незнакомая женщина и следующий (бегущий?) за ней пожилой священник. Батюшку работник знал уже пять лет, ничего интересного, а вот дамой он сходу залюбовался. Не сказать, что она была обворожительно красивой, однако производила впечатление ожившей статуи какой-нибудь древней княгини или волшебницы. Платье цвета запекшейся крови обтягивало отнюдь не выдающиеся формы, однако это не смотрелось недостатком, более того – придавало гостье величественный вид. Лик дамы был бледен в пику чёрным вьющимся волосам и густой подводке глаз. Вместе с восхищением Тимофей испытал… страх?
– И вовсе это не кощунство, святой отец! Мы ведь не посягаем на ваш храм! – явно продолжая начатый ранее разговор, сказала дама, обернувшись к настоятелю.
В этот момент чудаковатый господин посмотрел на неё, и взгляд его не оставлял сомнений, что эти двое близки.
– Да где это видано на Руси, чтобы плясавища рядом с храмом Божиим ставили? – парировал священник.
– Но ведь мы не преступники! Политически не агитируем, кровопролития и разврата на сцене не допустим. Любовные сцены – да, но это ведь красиво!
Женщина состроила жалобное лицо, будто была готова разрыдаться. «Насколько это искренне, учитывая её профессию?» – призадумался Тимофей.
– Дело театральное само по себе демонское, – устало сказал настоятель, – ещё в первые века отцы строго постановили...
– Послушайте, отче, – выступил вперёд домовладелец, своим пухловато-добродушным видом несколько понижавший уровень драмы, – я думаю, уважаемым господам всё же стоит дать попробовать. Как-никак Духовный регламент допускает зрелищные искусства в нашей державе. К вам, отче, просьба лишь одна: помочь с работниками для монтирования сцены, декораций и всего прочего.
Тимофей чуть подался вперёд: «Да, это я!»
Под уговорами хозяина дома священник неохотно сдался. Тимофею стало жалко своего теперь уже бывшего работодателя. Однако эти тилигенты-актёришки внушали ему надежду на повышение жалованья, да и соприкосновение с миром искусства как-то притягивало.
«Театр Мистерий – не просто театр, а сочетание игры, музыки, танца, красок! В пику сухой мещанской возне и условной расплывчатости!»
Тимофей понял не всё, но одно – точно: расхвалить себя языкастый режиссёр был не дурак.
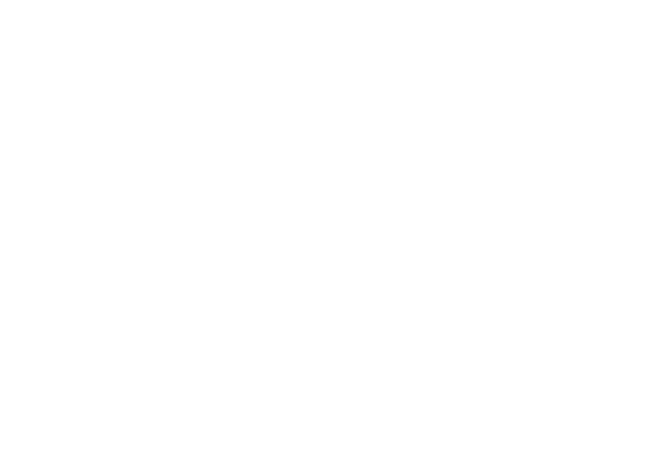
1916
«Я верну нам театр!»
«Я поставлю, поставлю ужасную пошлость! Пусть захлебнутся деньгами! А на эту прибыль мы продолжим творить Мистерии!»
Крики из режиссёрского кабинета прерывались воистину театральными паузами. Работник стоял за дверью как заворожённый.
– Тимофей! Вы уже здесь! Войдите!
Парень аж подскочил, осознав, что подслушивание не осталось незамеченным, а потом зашёл в кабинет.
Начальник театра сидел за столом, усеянным бумагами, среди которых были как эскизы для творчества, так и документы, связанные с тяжбами последних месяцев. Режиссёр был привычно строг, подтянут и свеж, но Тимофей, выражаясь языком своей профессии, ощутил некое дыхание сырости и плесени, исходящее из-под лакированного блеска.
На низком столе перед режиссёром стояли деревянные фигурки разных исторических и сказочных героев, как собранные им в путешествиях по Европе и Азии, так и изготовленные здешними мастерами. Статуэтки использовались для создания образов актёрам.
– Знаете, молодой человек, кто это?
Режиссёр развернул фигурку чёрной женщины с торчащими во все стороны руками. На груди барышни были грубо намалёваны человеческие черепа, длинный язык её падал на грудь.
– Это богиня Кали. Родиной из Индии, как и наш недавний триумф. Конечно, в «Сакунтале» её не было... В «Сакунтале» была радость и любовь!
Тимофей вспомнил премьеру. Забравшись под самый потолок, трудяга абсолютно безвозмездно просматривал, жуя пряник, спектакль про каких-то восточных влюблённых. Это была премьера театра, который он помог обустроить. Как-никак, и его победа!
В основном парень глядел на прелести красоток женского пола («в этой Индии, видать, жарко, вот и ходят полуголые, это у нас дубак!»). Однако приниженные мыслишки испарились из головы Тимофея, когда на сцену вышла Она. Жена режиссёра и его верная товарка по искусству. С привычно светлой, более того, специально отбелённой, кожей, и роскошной толстой косой почти чёрных волос. Она играла главную героиню, индийскую женщину.
– ...Но она где-то здесь сейчас.
– Кто – она? – Тимофей вырвался из воспоминаний.
– Вы слушаете меня? Богиня разрушения! Над нами навис злой рок, уважаемый пролетарий. Театр рушится... во всех смыслах. Сырость, плесень. Сутяжничество. Церковная цензура.
– Эмм, господин, может, всё проще? Братцы-хозяева вас, похоже, невзлюбили.
Тимофей осёкся, предполагая, что ляпнул лишнего и оказался меж двух огней.
Театрал вскочил и стал расхаживать вокруг стола, нервно утирая лоб платком.
– Ах, вот как! А не говорили ли любезные братья, что их не устраивает на самом деле?!
– Ну-у... – работяга понял, что отступать поздно, – поговаривают, что из-за ваших, значит, мистериев, у хозяев дома хандра обостряется, болячки какие-то... Когда ночуют в этом доме, к ним чучела какие-то приходят во сне. Может, ну их, восточных этих… многоруких…
– Во-от как, не нравится вам Восток... Европу хотите?! Будет вам Европа!
Прежде говоривший в стену режиссёр рывком обернулся к рабочему. Глаза у творца приобрели не самый здоровый блеск.
– Не сомневайтесь, Тимофей! Европа – это тоже сокровищница! Я говорил с жителями Европы, да! Вот заработаем на пошлых комедийках барыш, откупимся от братцев-купцов – и я им покажу Европу! Прогремим!
– Может, сударь уважаемый, вам что-нибудь поближе к народу сделать? Про витязей нашенских, во!
– А? Что?! Витязей! Да кому они нужны? Серость!
Глава театра начал рыться на полке шкафа, вытащил красно-белые глиняные фигурки. Это были мужчина и женщина с рожками и копытцами, как у козлят.
– Знаешь, кто это, Тимофей?! Это сатир и нимфа. Они населяли Элладу в Золотой век. Будет мистерия про них! Делай, честный труженик, нам горы Эллады. Сейчас, сейчас я нарисую тебе эскизы, сам... Семьдесят, нет, сто червонцев заплачу! А братцы давали тебе столько, а попы?!
От упоминания «попов» Тимофею стало немного обидно – всё же он раньше работал при храме. Но обещания были завлекательны, и скоро натруженная ладонь рабочего и аристократическая – театрала, сомкнулись в рукопожатии.
«Я верну нам театр!»
«Я поставлю, поставлю ужасную пошлость! Пусть захлебнутся деньгами! А на эту прибыль мы продолжим творить Мистерии!»
Крики из режиссёрского кабинета прерывались воистину театральными паузами. Работник стоял за дверью как заворожённый.
– Тимофей! Вы уже здесь! Войдите!
Парень аж подскочил, осознав, что подслушивание не осталось незамеченным, а потом зашёл в кабинет.
Начальник театра сидел за столом, усеянным бумагами, среди которых были как эскизы для творчества, так и документы, связанные с тяжбами последних месяцев. Режиссёр был привычно строг, подтянут и свеж, но Тимофей, выражаясь языком своей профессии, ощутил некое дыхание сырости и плесени, исходящее из-под лакированного блеска.
На низком столе перед режиссёром стояли деревянные фигурки разных исторических и сказочных героев, как собранные им в путешествиях по Европе и Азии, так и изготовленные здешними мастерами. Статуэтки использовались для создания образов актёрам.
– Знаете, молодой человек, кто это?
Режиссёр развернул фигурку чёрной женщины с торчащими во все стороны руками. На груди барышни были грубо намалёваны человеческие черепа, длинный язык её падал на грудь.
– Это богиня Кали. Родиной из Индии, как и наш недавний триумф. Конечно, в «Сакунтале» её не было... В «Сакунтале» была радость и любовь!
Тимофей вспомнил премьеру. Забравшись под самый потолок, трудяга абсолютно безвозмездно просматривал, жуя пряник, спектакль про каких-то восточных влюблённых. Это была премьера театра, который он помог обустроить. Как-никак, и его победа!
В основном парень глядел на прелести красоток женского пола («в этой Индии, видать, жарко, вот и ходят полуголые, это у нас дубак!»). Однако приниженные мыслишки испарились из головы Тимофея, когда на сцену вышла Она. Жена режиссёра и его верная товарка по искусству. С привычно светлой, более того, специально отбелённой, кожей, и роскошной толстой косой почти чёрных волос. Она играла главную героиню, индийскую женщину.
– ...Но она где-то здесь сейчас.
– Кто – она? – Тимофей вырвался из воспоминаний.
– Вы слушаете меня? Богиня разрушения! Над нами навис злой рок, уважаемый пролетарий. Театр рушится... во всех смыслах. Сырость, плесень. Сутяжничество. Церковная цензура.
– Эмм, господин, может, всё проще? Братцы-хозяева вас, похоже, невзлюбили.
Тимофей осёкся, предполагая, что ляпнул лишнего и оказался меж двух огней.
Театрал вскочил и стал расхаживать вокруг стола, нервно утирая лоб платком.
– Ах, вот как! А не говорили ли любезные братья, что их не устраивает на самом деле?!
– Ну-у... – работяга понял, что отступать поздно, – поговаривают, что из-за ваших, значит, мистериев, у хозяев дома хандра обостряется, болячки какие-то... Когда ночуют в этом доме, к ним чучела какие-то приходят во сне. Может, ну их, восточных этих… многоруких…
– Во-от как, не нравится вам Восток... Европу хотите?! Будет вам Европа!
Прежде говоривший в стену режиссёр рывком обернулся к рабочему. Глаза у творца приобрели не самый здоровый блеск.
– Не сомневайтесь, Тимофей! Европа – это тоже сокровищница! Я говорил с жителями Европы, да! Вот заработаем на пошлых комедийках барыш, откупимся от братцев-купцов – и я им покажу Европу! Прогремим!
– Может, сударь уважаемый, вам что-нибудь поближе к народу сделать? Про витязей нашенских, во!
– А? Что?! Витязей! Да кому они нужны? Серость!
Глава театра начал рыться на полке шкафа, вытащил красно-белые глиняные фигурки. Это были мужчина и женщина с рожками и копытцами, как у козлят.
– Знаешь, кто это, Тимофей?! Это сатир и нимфа. Они населяли Элладу в Золотой век. Будет мистерия про них! Делай, честный труженик, нам горы Эллады. Сейчас, сейчас я нарисую тебе эскизы, сам... Семьдесят, нет, сто червонцев заплачу! А братцы давали тебе столько, а попы?!
От упоминания «попов» Тимофею стало немного обидно – всё же он раньше работал при храме. Но обещания были завлекательны, и скоро натруженная ладонь рабочего и аристократическая – театрала, сомкнулись в рукопожатии.
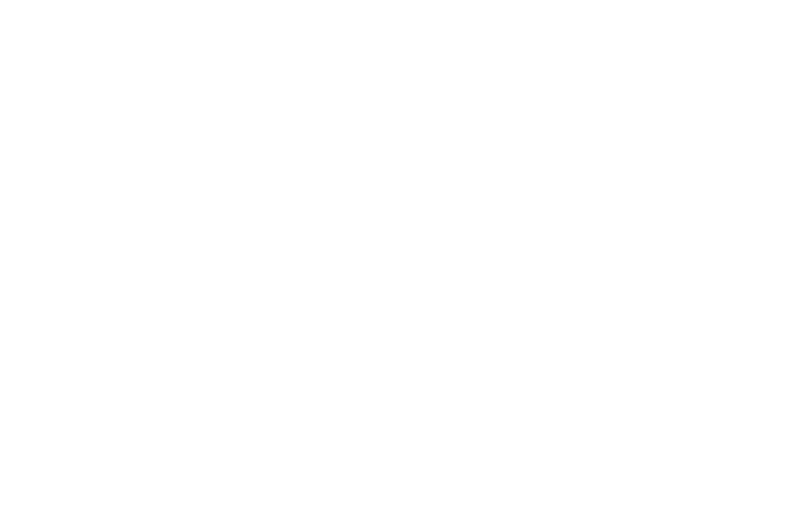
1917
Тимофей лез по деревянным ступенькам, изображавшим горы далёкой Эллады. Лез долго, не понимая, как умудрился построить декорации выше самого потолка? Вот жеж бред!
Но горы были вовсе не деревянные, а обычные. Эк как ему почудилось. Оказывается, он в Греции, внизу – зелень лесов, наверху – голубое небо. Из-за кромки горы, по которой он лезет, доносятся отголоски женского пения.
Взобравшись, он видит рощу из вековых узловатых древ, пересечённую журчащими ручьями. Там танцуют девушки – чарующе красивые, хотя и с рожками и копытцами. Красотки обнажены, только некоторые участки их кожи покрыты лозами и листьями.
Тимофей не замечает, как оказался в центре рощи.
– Живой! Живой пришёл!
– Играй с нами! Танцуй с нами!
Тимофей – сам в чём мать родила, стоит в центре хоровода пляшущих вокруг него дев. Нет, девами их не назвать. Они страстные, опытные в страсти. В страсти и... кровопролитии?
Крича «Живой! Живой!», нимфы (кажется, так их звали на сцене), звонко смеются, и во рту у них блестят острые зубы.
Одна из лесных танцовщиц оказывается перед лицом Тимофея. Левой рукой она гладит его ногу, срамные части, потом живот. Правой – подносит мужчине рог с вином.
– Танцуй, пей, пой, живой. Играй с нами.
Тимофей берёт кубок. От вина несёт смрадом. Так пахло в мясницком ряду, куда водил его в детстве дядя Афанасий. Но отказаться невозможно, и он пьёт. У напитка, помимо жгучего хмельного, какой-то железный привкус.
– Нас ждёт долгая ночь, живой!
Действительно, хоть он не заметил, а в роще стемнело. Небо при том не простое, а багровое, со складками, как ткань кулис.
«Душа его смутилась! Трепещут её струны!»
Деревья будто обступили их хоровод, ветви висят над головой как крючья в мясницкой лавке, и на них действительно висят части тел людей. Картина под стать запаху и вкусу вина. Пальцы нимфы снова гладят бедро Тимофея, но теперь это больно. На землю капает его кровь. Когти подбираются к мужскому естеству.
Тимофей пытается оттолкнуть нимфу, но руки не слушаются, и язык немеет, как сухой корень. Гость нимф стал безвольной тушей на скотобойне.
«Я побеждён, ты видишь – нет кифары». Слова главного героя пьесы вспыхивают огненным клеймом в голове.
– Устрой живому ночь, сестра! Устрой ему ночь навсегда!
Нимфа тянется ко глазам Тимофея когтистыми пальцами. Он не может уйти, поскольку ноги обвили лозы.
Хлюпанье и боль. Потом его сталкивают с горы, и безглазый герой пьесы летит, летит вниз…
Тимофей с воплем просыпается и думает, что ослеп. Потом оказывается, что здесь просто темно. Он лежит на сцене среди «гор» для спектакля про греческого игрока на кифаре. Хотя засыпал, вообще-то, в каморке флигеля. Башка гудит, как от пьянки, во рту сухо и мерзко, при том, что Тимофей капли в рот не брал недели три. Между ног зуд – странное сочетание неудовлетворённой похоти и боли. На ноге ноет царапина: интересно, если потрогать, там будет кровь? Проверять ему страшновато.
Тимофей сел на край сцены. Через облака пробился лунный свет. Ночь, хоть и мрачная, была привычной, человеческой. Красивый свет, красивая темнота, красивая женщина с головой в руках.
«Ааааыыы...» – процедил парень, которого после побега из прежнего кошмара настиг новый, и в сидячем положении попятился назад.
– Тоже любите ночь? Не ожидала, право, от человека из народных масс.
Красивая белая женщина с чёрными кудрями скромно улыбнулась. Это почти растопило ухающее сердце Тимофея, но не до конца: бородатая и волосатая голова в руках жены режиссёра не позволяла успокоиться. В дополнение к этому у самой актрисы глаза были подведены так густо, что казались провалами в черепе.
– Куда вы смотри... Ах, это! Pardonne-moi! Pardonne-moi! Не думала, что застану здесь свидетеля своей репетиции. Голова сделана из воска, но я рада, что мастерам удалось передать реализм...
– Аааа…
Рука Тимофея довольно небрежно изобразила крестное знамение. Он чувствовал себя дураком: ведь не похожа же голова на настоящую, если присмотреться.
– Да, молодой человек, вы ведь служили при храме. Помните Иоанна Крестителя?
Конечно, он помнил – из проповедей, с праздников лета и осени...
– Его казнили по просьбе одной девицы, Саломеи. Обезглавили. Мы ставим пьесу по этой истории. Саломея превосходно танцевала, и царь ради её танца согласился убить проповедника! Раньше из-за цензуры приходилось менять сюжет и имена. Теперь наконец настала свобода творчества!
С этими словами актриса стала поглаживать рукотворную голову, трепать бахрому волос «пророка». Тимофей вспомнил похотливые прикосновения нимфы к себе и поморщился.
– Я люблю танцевать. Надеюсь, что мне удастся воплотить образ великой танцовщицы. А вы любите танцевать, молодой человек?
– С-сударыня... Мне бежать пора, дела есть.
Звучало это сверх-глупо: дела у рабочего, который валяется на сцене среди ночи, да ещё и похмельно-растрёпанный внешне. Но, так или иначе, Тимофей поспешно ретировался.
Надо же. Загадочная женщина, прежде недосягаемая, как богиня, была в двух шагах от него и мило общалась!
Актриса молча проводила рабочего взглядом. Её больше увлекала голова без тела.
Парень выбежал из театра и, дыша холодной февральской моросью, устремился по снегу и льду к соседней двери. Не доходя нескольких шагов, он осознал, что церковь будет заперта до утра. Настоятель и некоторые из диаконов жили в домах внутри церковной ограды, однако будить их Тимофей не решился. С тех пор, как парень ушёл работать в Театр Мистерий, отцы и паства смотрели на него хмуро. Да и сам он гораздо реже ходил на службы, а причащаться почти перестал.
Тем не менее, возвращаться в соседнее здание Тимофей не хотел. Не то, чтобы он панически боялся, но как-то гадко было на сердце, будто внутри копошились черви.
Он встретил рассвет полусидя-полулёжа возле дверей храма, под чугунным зонтом, спасавшим от ледяных капель. Когда подросток-чтец молча отворил замок, Тимофей вбежал под сень церкви, жадно впитывая телом тепло духовых печей, а душой – святость знакомого с отрочества места. По прибытию настоятеля к часам, пока прихожане ещё не заполнили храм, у них состоялся разговор.
– И верно, батюшка, говорили, нечистые живут в театре! – сбивчиво лопотал Тимофей, – велите Синоду проверить там всё! Покропят водичкой святой, покадят...
– Успокойся, успокойся. Ты, Тимофей, сказал, во сне пришли к тебе бесы. Отцы говорят, снам доверять не надо. Точно ли не хмелем или объядением ты вызвал кошмары? Или на актрис развратных глядел?
– Глядел! Каюсь, отче! Но не пил! И дурман с актёрами не пробовал! Надо жандармов звать, во! Не бесов, так самих актёров поймают, они там кощунство придумали! В двух шагах от церкви вашей!
Священник невесело улыбнулся. Может, потому, что услышал «вашей», будто Тимофей этим словом отделил себя от верных?
– Прошло время жандармов-то. Не слыхал ты разве, что в Петербурге давеча произошло? Теперь свобода у нас, вот и сорвались они с цепи. «Теперь ваше время и власть тьмы» – сам Спаситель сказал. Ты пока что свою душу приведи в порядок. Грехи исповедуй, причастись.
Хоть и было время тьмы, но зримый свет вступал в свои права. Храм наполнялся людьми. Тимофей стоял, слушал часы, потом пение Литургии. Но вспомнил задание от директора театра. Тот вчера ещё сказал сколотить стены дворца для новой мистерии.
«Зря они, конечно, поминают всуе угодников Божьих, – думал Тимофей, – но кормиться-то надо. Особенно если смута начнётся или война на Западе пойдёт совсем неудачно».
Да и солнышко развеяло мрачные мысли рабочего. Может, после постановки по Библии, хоть и вольнодумной, нехорошие видения оставят театр? Тимофей подумал, вдруг у него получится во сне – или это не сон? – пообщаться с кем-то из героев Библии. Это похлеще службы в храме будет. Как там директор говорил на лекции перед актёрами: «мистерия – та же реальность». То есть, что на сцене – в каком-то смысле и всамделишное.
Так что рабочий, не дожидаясь выноса Чаши, проделал путь в двадцать аршин (который ночью показался ему двадцатью вёрстами) и вошёл в театр, преисполняясь лучших ожиданий.
Тимофей лез по деревянным ступенькам, изображавшим горы далёкой Эллады. Лез долго, не понимая, как умудрился построить декорации выше самого потолка? Вот жеж бред!
Но горы были вовсе не деревянные, а обычные. Эк как ему почудилось. Оказывается, он в Греции, внизу – зелень лесов, наверху – голубое небо. Из-за кромки горы, по которой он лезет, доносятся отголоски женского пения.
Взобравшись, он видит рощу из вековых узловатых древ, пересечённую журчащими ручьями. Там танцуют девушки – чарующе красивые, хотя и с рожками и копытцами. Красотки обнажены, только некоторые участки их кожи покрыты лозами и листьями.
Тимофей не замечает, как оказался в центре рощи.
– Живой! Живой пришёл!
– Играй с нами! Танцуй с нами!
Тимофей – сам в чём мать родила, стоит в центре хоровода пляшущих вокруг него дев. Нет, девами их не назвать. Они страстные, опытные в страсти. В страсти и... кровопролитии?
Крича «Живой! Живой!», нимфы (кажется, так их звали на сцене), звонко смеются, и во рту у них блестят острые зубы.
Одна из лесных танцовщиц оказывается перед лицом Тимофея. Левой рукой она гладит его ногу, срамные части, потом живот. Правой – подносит мужчине рог с вином.
– Танцуй, пей, пой, живой. Играй с нами.
Тимофей берёт кубок. От вина несёт смрадом. Так пахло в мясницком ряду, куда водил его в детстве дядя Афанасий. Но отказаться невозможно, и он пьёт. У напитка, помимо жгучего хмельного, какой-то железный привкус.
– Нас ждёт долгая ночь, живой!
Действительно, хоть он не заметил, а в роще стемнело. Небо при том не простое, а багровое, со складками, как ткань кулис.
«Душа его смутилась! Трепещут её струны!»
Деревья будто обступили их хоровод, ветви висят над головой как крючья в мясницкой лавке, и на них действительно висят части тел людей. Картина под стать запаху и вкусу вина. Пальцы нимфы снова гладят бедро Тимофея, но теперь это больно. На землю капает его кровь. Когти подбираются к мужскому естеству.
Тимофей пытается оттолкнуть нимфу, но руки не слушаются, и язык немеет, как сухой корень. Гость нимф стал безвольной тушей на скотобойне.
«Я побеждён, ты видишь – нет кифары». Слова главного героя пьесы вспыхивают огненным клеймом в голове.
– Устрой живому ночь, сестра! Устрой ему ночь навсегда!
Нимфа тянется ко глазам Тимофея когтистыми пальцами. Он не может уйти, поскольку ноги обвили лозы.
Хлюпанье и боль. Потом его сталкивают с горы, и безглазый герой пьесы летит, летит вниз…
Тимофей с воплем просыпается и думает, что ослеп. Потом оказывается, что здесь просто темно. Он лежит на сцене среди «гор» для спектакля про греческого игрока на кифаре. Хотя засыпал, вообще-то, в каморке флигеля. Башка гудит, как от пьянки, во рту сухо и мерзко, при том, что Тимофей капли в рот не брал недели три. Между ног зуд – странное сочетание неудовлетворённой похоти и боли. На ноге ноет царапина: интересно, если потрогать, там будет кровь? Проверять ему страшновато.
Тимофей сел на край сцены. Через облака пробился лунный свет. Ночь, хоть и мрачная, была привычной, человеческой. Красивый свет, красивая темнота, красивая женщина с головой в руках.
«Ааааыыы...» – процедил парень, которого после побега из прежнего кошмара настиг новый, и в сидячем положении попятился назад.
– Тоже любите ночь? Не ожидала, право, от человека из народных масс.
Красивая белая женщина с чёрными кудрями скромно улыбнулась. Это почти растопило ухающее сердце Тимофея, но не до конца: бородатая и волосатая голова в руках жены режиссёра не позволяла успокоиться. В дополнение к этому у самой актрисы глаза были подведены так густо, что казались провалами в черепе.
– Куда вы смотри... Ах, это! Pardonne-moi! Pardonne-moi! Не думала, что застану здесь свидетеля своей репетиции. Голова сделана из воска, но я рада, что мастерам удалось передать реализм...
– Аааа…
Рука Тимофея довольно небрежно изобразила крестное знамение. Он чувствовал себя дураком: ведь не похожа же голова на настоящую, если присмотреться.
– Да, молодой человек, вы ведь служили при храме. Помните Иоанна Крестителя?
Конечно, он помнил – из проповедей, с праздников лета и осени...
– Его казнили по просьбе одной девицы, Саломеи. Обезглавили. Мы ставим пьесу по этой истории. Саломея превосходно танцевала, и царь ради её танца согласился убить проповедника! Раньше из-за цензуры приходилось менять сюжет и имена. Теперь наконец настала свобода творчества!
С этими словами актриса стала поглаживать рукотворную голову, трепать бахрому волос «пророка». Тимофей вспомнил похотливые прикосновения нимфы к себе и поморщился.
– Я люблю танцевать. Надеюсь, что мне удастся воплотить образ великой танцовщицы. А вы любите танцевать, молодой человек?
– С-сударыня... Мне бежать пора, дела есть.
Звучало это сверх-глупо: дела у рабочего, который валяется на сцене среди ночи, да ещё и похмельно-растрёпанный внешне. Но, так или иначе, Тимофей поспешно ретировался.
Надо же. Загадочная женщина, прежде недосягаемая, как богиня, была в двух шагах от него и мило общалась!
Актриса молча проводила рабочего взглядом. Её больше увлекала голова без тела.
Парень выбежал из театра и, дыша холодной февральской моросью, устремился по снегу и льду к соседней двери. Не доходя нескольких шагов, он осознал, что церковь будет заперта до утра. Настоятель и некоторые из диаконов жили в домах внутри церковной ограды, однако будить их Тимофей не решился. С тех пор, как парень ушёл работать в Театр Мистерий, отцы и паства смотрели на него хмуро. Да и сам он гораздо реже ходил на службы, а причащаться почти перестал.
Тем не менее, возвращаться в соседнее здание Тимофей не хотел. Не то, чтобы он панически боялся, но как-то гадко было на сердце, будто внутри копошились черви.
Он встретил рассвет полусидя-полулёжа возле дверей храма, под чугунным зонтом, спасавшим от ледяных капель. Когда подросток-чтец молча отворил замок, Тимофей вбежал под сень церкви, жадно впитывая телом тепло духовых печей, а душой – святость знакомого с отрочества места. По прибытию настоятеля к часам, пока прихожане ещё не заполнили храм, у них состоялся разговор.
– И верно, батюшка, говорили, нечистые живут в театре! – сбивчиво лопотал Тимофей, – велите Синоду проверить там всё! Покропят водичкой святой, покадят...
– Успокойся, успокойся. Ты, Тимофей, сказал, во сне пришли к тебе бесы. Отцы говорят, снам доверять не надо. Точно ли не хмелем или объядением ты вызвал кошмары? Или на актрис развратных глядел?
– Глядел! Каюсь, отче! Но не пил! И дурман с актёрами не пробовал! Надо жандармов звать, во! Не бесов, так самих актёров поймают, они там кощунство придумали! В двух шагах от церкви вашей!
Священник невесело улыбнулся. Может, потому, что услышал «вашей», будто Тимофей этим словом отделил себя от верных?
– Прошло время жандармов-то. Не слыхал ты разве, что в Петербурге давеча произошло? Теперь свобода у нас, вот и сорвались они с цепи. «Теперь ваше время и власть тьмы» – сам Спаситель сказал. Ты пока что свою душу приведи в порядок. Грехи исповедуй, причастись.
Хоть и было время тьмы, но зримый свет вступал в свои права. Храм наполнялся людьми. Тимофей стоял, слушал часы, потом пение Литургии. Но вспомнил задание от директора театра. Тот вчера ещё сказал сколотить стены дворца для новой мистерии.
«Зря они, конечно, поминают всуе угодников Божьих, – думал Тимофей, – но кормиться-то надо. Особенно если смута начнётся или война на Западе пойдёт совсем неудачно».
Да и солнышко развеяло мрачные мысли рабочего. Может, после постановки по Библии, хоть и вольнодумной, нехорошие видения оставят театр? Тимофей подумал, вдруг у него получится во сне – или это не сон? – пообщаться с кем-то из героев Библии. Это похлеще службы в храме будет. Как там директор говорил на лекции перед актёрами: «мистерия – та же реальность». То есть, что на сцене – в каком-то смысле и всамделишное.
Так что рабочий, не дожидаясь выноса Чаши, проделал путь в двадцать аршин (который ночью показался ему двадцатью вёрстами) и вошёл в театр, преисполняясь лучших ожиданий.
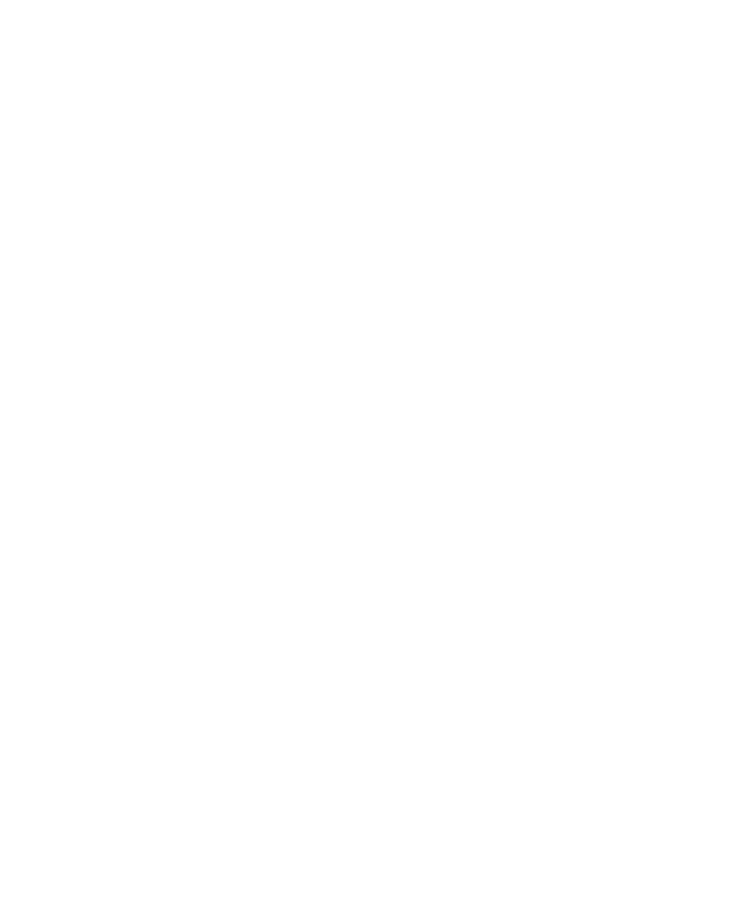
1936
Тимофей Петрович вскочил среди ночи от топота и далёких криков. Он обнаружил, что заснул, уткнувшись лицом в стол, забыв выключить тусклую лампочку. Мерзкий привкус во рту напомнил ему пробуждение одной странной ночью в молодости. Однако теперь никакой мистики не было, ведь вечером советский пролетарий употреблял мутный самогон. Он не так уж часто напивался, может, раза три в месяц. Приемлемо для довольно беспутной жизни, как у него.
В революционные годы Тимофей остался при театре, но жить стал во флигеле церкви. Здесь было спокойней. Два раза вступал в связь с актрисами мелкого пошиба, но до женитьбы ветреные особы не дошли. У одной родился от него сын, но они вместе уехали помогать родителям в голод, и, возможно, потом были арестованы.
Три года назад храм закрыли, в здании разместили общежитие с мастерскими Театра Мистерий. Тимофей к тому времени мог зваться Тимофеем Петровичем – по возрасту, пробившейся лысине и лёгкой седине.
В помещениях бывшей церкви временами содержали заключённых на пересылке. «Неужто уголовники привезённые буянят?» – не без страха подумал трудяга.
Вооружившись молотком из мастерской, Тимофей открыл тяжёлую чёрную деревянную дверь с афишей «Опера-абсурд "Витязи"». Тот самый старый вход оставили, когда обновляли фасад. Из памятных соображений. Прекрасной жене хозяина театра здание приглянулось именно за красивую дверь.
Рабочий тихо, чтоб не привлечь возможных бандитов, шагал по галерее. Кулисы легонько колыхались – наверное, где-то сквозняк. Да и в целом в здании было холодней, чем нужно. Работяга упрекнул себя в пьянстве и лени, но тут же подметил, что беспорядок в театре связан с начальством. В карьере великого режиссёра наступила чёрная полоса: давеча на его спектакль обрушился шквал критики, в том числе от лиц уровня Молотова в политике и Станиславского – в искусстве. Глава Театра Мистерий стал странноватым, ходил медленно и неловко, время от времени замирал и оглядывался.
Шум шёл сверху. Тимофею Петровичу показалось, будто там гремит металл. Но что это могло быть – актёры устроили концерт на кастрюлях? Другой род звуков напоминал голоса нескольких людей, по интонациям вроде как русских, этаких разухабистых деревенщин (работник вспомнил базары, на которые ходил в детстве), но ни одно слово нельзя было различить.
Входить на второй этаж, где раньше жили купцы-домовладельцы, без спроса не стоило. Там находились кабинеты начальства. Но, как подумал Тимофей, во-первых, строй теперь, как-никак, пролетарский, а не помещичий, во-вторых, если директору грозит беда, тут уж не до правил.
Звук, как выяснилось, шёл из костюмерной.
С молотком наперевес работяга ввалился в комнату и ощутил себя полным дуралеем. Как-то незаметно все звуки сошли на нет, словно и не было. Помещение с потолком под три метра на первый взгляд оказалось безлюдным. Хотя лиц, точнее, личин, здесь было много: со стен пялились десятки масок героев, богов и чудищ разных стран. Также здесь висели многочисленные платья, шапки, доспехи, оружие. Комната освещалась из форточки лунным светом, а слева на столе эскизов стояла зажжённая масляная лампа.
В дальнем углу раздался всхлип.
Директор Театра Мистерий свернулся на полу в позе зародыша. Он был одет в белые панталоны и распахнутый бордовый халат. Над телом начальника висели доспехи и рубахи со злосчастного обруганного спектакля про Древнюю Русь.
– Вы же не убьете меня?
– Эээ... Я... Что?
Тимофей понял, что смотрится он не очень дружелюбно с молотком в руке.
– Ой, простите, я думал, на театр напали... Эээ... Вам позвать доктора?
Наполнившись внутренним достоинством, насколько позволяла ситуация, директор поднялся из совсем уж униженной позы и сел на пол.
– Нет, Тимофей... Тимофей Петрович, погодите с доктором. Посмотрите сами, у меня есть кровь? Есть рана на шее? На голове?
– Д-да нет... Нет у вас раны.
Вообще-то, видно было слабо, но Тимофей понимал, что никаких людей с оружием тут, вероятно, не было. Разве что начальник хотел наложить на себя руки. Может, он гремел, доставая какой-нибудь меч? Но мечи ведь здесь бутафорские...
– В сердце... Прямо в сердце! Они поразили меня! Избили! Искалечили!
– Эти, что ли, критики? Да плюньте вы на них, сколько нас хотели запретить до революции?! А мы живы!
– Не критики. Слышишь, Тимофей? Они ещё здесь? Или ушли?
Директор сделал несколько шагов, точнее, прополз в сторону рабочего. Теперь, на свету, стала лучше видна его внешность. Нанесли режиссёру раны или нет, но лицо его было осунувшимся и бледным, как у трупа, при этом с розовыми полосками – царапал сам себя?
– Да кто ушёл? Я уж подумал, беглые уголовники пробрались к вам. Если кого видели во дворе, надо в органы заявить.
– Уголовники. Да. Разбойники. Разбойники! Разбойники, хотя зовутся витязи! Ах, да, про витязей бы сочинить! Хорошо будет! К народу близко! С ними Стрига приходил! Бил меня, проклинал!
Стригой, как помнил Тимофей Петрович, звали волхва-язычника из новой оперы Театра. Сюжет касался князя Владимира и его приближённых. Только богатырей и правителя изобразили не героями, а сворой бандитов. Придумал это известный поэт-атеист, а в Театре Мистерий сценарий воплотили. Тимофей немного удивился, когда оперу разнесли критики, доведя её создателя до нынешнего состояния – странно, ведь большевики религию и старую Россию в целом не жаловали.
– То есть как это – Стрига бил? Актёры, что ли, взбунтовались?
– Оооохохо... Актёры. Где актёр, а герой, а, Тимофей?! Мистерия – это жизнь! Он сам, сам здесь стоял! Стрига сказал – раз люди их видеть не хотят, то и они меня не желают... Они мне славу дали, Тимофей! Им и забирать!
– Ну-у... – почесав лысину, примирительно сказал рабочий, – не всё же потеряно. Поставите новую пьесу...
– Поставлю? Да? Говорят, не дадут мне. Не дадут они. Витязи, нимфы, боги… Говорят, теперь я не нужен. Теперь те, наверху, будут им играть. Скоро, говорят, начнётся. Богатыри такие. Разбойники. Пляска, говорят, начнётся. Мистерия. На всю страну, на весь мир. Вы только душеньке моей, красавице, умнице, богине, не говорите, что я так пал... Мы вместе ещё сделаем... Мы поживём ещё... Я просил их, чтобы к ней не приходили, а меня пусть хоть в пекло возьмут!
Тимофей ничего не ответил. Он выбежал из здания, бросил молоток на крыльцо театра, и шёл, шёл, по ночной советской Москве. Теперь в двух шагах от театра не было храма. И в ста, и в тысяче. И клирики все знакомые сидели по ссылкам. Со стен общественных зданий на него смотрели лики жреца Стриги и витязей-разбойников, а где-то под ними были заклеенные лица индийских красавиц, греческих музыкантов и нимф, царей и танцовщиц древней Иудеи.
Тимофей Петрович вскочил среди ночи от топота и далёких криков. Он обнаружил, что заснул, уткнувшись лицом в стол, забыв выключить тусклую лампочку. Мерзкий привкус во рту напомнил ему пробуждение одной странной ночью в молодости. Однако теперь никакой мистики не было, ведь вечером советский пролетарий употреблял мутный самогон. Он не так уж часто напивался, может, раза три в месяц. Приемлемо для довольно беспутной жизни, как у него.
В революционные годы Тимофей остался при театре, но жить стал во флигеле церкви. Здесь было спокойней. Два раза вступал в связь с актрисами мелкого пошиба, но до женитьбы ветреные особы не дошли. У одной родился от него сын, но они вместе уехали помогать родителям в голод, и, возможно, потом были арестованы.
Три года назад храм закрыли, в здании разместили общежитие с мастерскими Театра Мистерий. Тимофей к тому времени мог зваться Тимофеем Петровичем – по возрасту, пробившейся лысине и лёгкой седине.
В помещениях бывшей церкви временами содержали заключённых на пересылке. «Неужто уголовники привезённые буянят?» – не без страха подумал трудяга.
Вооружившись молотком из мастерской, Тимофей открыл тяжёлую чёрную деревянную дверь с афишей «Опера-абсурд "Витязи"». Тот самый старый вход оставили, когда обновляли фасад. Из памятных соображений. Прекрасной жене хозяина театра здание приглянулось именно за красивую дверь.
Рабочий тихо, чтоб не привлечь возможных бандитов, шагал по галерее. Кулисы легонько колыхались – наверное, где-то сквозняк. Да и в целом в здании было холодней, чем нужно. Работяга упрекнул себя в пьянстве и лени, но тут же подметил, что беспорядок в театре связан с начальством. В карьере великого режиссёра наступила чёрная полоса: давеча на его спектакль обрушился шквал критики, в том числе от лиц уровня Молотова в политике и Станиславского – в искусстве. Глава Театра Мистерий стал странноватым, ходил медленно и неловко, время от времени замирал и оглядывался.
Шум шёл сверху. Тимофею Петровичу показалось, будто там гремит металл. Но что это могло быть – актёры устроили концерт на кастрюлях? Другой род звуков напоминал голоса нескольких людей, по интонациям вроде как русских, этаких разухабистых деревенщин (работник вспомнил базары, на которые ходил в детстве), но ни одно слово нельзя было различить.
Входить на второй этаж, где раньше жили купцы-домовладельцы, без спроса не стоило. Там находились кабинеты начальства. Но, как подумал Тимофей, во-первых, строй теперь, как-никак, пролетарский, а не помещичий, во-вторых, если директору грозит беда, тут уж не до правил.
Звук, как выяснилось, шёл из костюмерной.
С молотком наперевес работяга ввалился в комнату и ощутил себя полным дуралеем. Как-то незаметно все звуки сошли на нет, словно и не было. Помещение с потолком под три метра на первый взгляд оказалось безлюдным. Хотя лиц, точнее, личин, здесь было много: со стен пялились десятки масок героев, богов и чудищ разных стран. Также здесь висели многочисленные платья, шапки, доспехи, оружие. Комната освещалась из форточки лунным светом, а слева на столе эскизов стояла зажжённая масляная лампа.
В дальнем углу раздался всхлип.
Директор Театра Мистерий свернулся на полу в позе зародыша. Он был одет в белые панталоны и распахнутый бордовый халат. Над телом начальника висели доспехи и рубахи со злосчастного обруганного спектакля про Древнюю Русь.
– Вы же не убьете меня?
– Эээ... Я... Что?
Тимофей понял, что смотрится он не очень дружелюбно с молотком в руке.
– Ой, простите, я думал, на театр напали... Эээ... Вам позвать доктора?
Наполнившись внутренним достоинством, насколько позволяла ситуация, директор поднялся из совсем уж униженной позы и сел на пол.
– Нет, Тимофей... Тимофей Петрович, погодите с доктором. Посмотрите сами, у меня есть кровь? Есть рана на шее? На голове?
– Д-да нет... Нет у вас раны.
Вообще-то, видно было слабо, но Тимофей понимал, что никаких людей с оружием тут, вероятно, не было. Разве что начальник хотел наложить на себя руки. Может, он гремел, доставая какой-нибудь меч? Но мечи ведь здесь бутафорские...
– В сердце... Прямо в сердце! Они поразили меня! Избили! Искалечили!
– Эти, что ли, критики? Да плюньте вы на них, сколько нас хотели запретить до революции?! А мы живы!
– Не критики. Слышишь, Тимофей? Они ещё здесь? Или ушли?
Директор сделал несколько шагов, точнее, прополз в сторону рабочего. Теперь, на свету, стала лучше видна его внешность. Нанесли режиссёру раны или нет, но лицо его было осунувшимся и бледным, как у трупа, при этом с розовыми полосками – царапал сам себя?
– Да кто ушёл? Я уж подумал, беглые уголовники пробрались к вам. Если кого видели во дворе, надо в органы заявить.
– Уголовники. Да. Разбойники. Разбойники! Разбойники, хотя зовутся витязи! Ах, да, про витязей бы сочинить! Хорошо будет! К народу близко! С ними Стрига приходил! Бил меня, проклинал!
Стригой, как помнил Тимофей Петрович, звали волхва-язычника из новой оперы Театра. Сюжет касался князя Владимира и его приближённых. Только богатырей и правителя изобразили не героями, а сворой бандитов. Придумал это известный поэт-атеист, а в Театре Мистерий сценарий воплотили. Тимофей немного удивился, когда оперу разнесли критики, доведя её создателя до нынешнего состояния – странно, ведь большевики религию и старую Россию в целом не жаловали.
– То есть как это – Стрига бил? Актёры, что ли, взбунтовались?
– Оооохохо... Актёры. Где актёр, а герой, а, Тимофей?! Мистерия – это жизнь! Он сам, сам здесь стоял! Стрига сказал – раз люди их видеть не хотят, то и они меня не желают... Они мне славу дали, Тимофей! Им и забирать!
– Ну-у... – почесав лысину, примирительно сказал рабочий, – не всё же потеряно. Поставите новую пьесу...
– Поставлю? Да? Говорят, не дадут мне. Не дадут они. Витязи, нимфы, боги… Говорят, теперь я не нужен. Теперь те, наверху, будут им играть. Скоро, говорят, начнётся. Богатыри такие. Разбойники. Пляска, говорят, начнётся. Мистерия. На всю страну, на весь мир. Вы только душеньке моей, красавице, умнице, богине, не говорите, что я так пал... Мы вместе ещё сделаем... Мы поживём ещё... Я просил их, чтобы к ней не приходили, а меня пусть хоть в пекло возьмут!
Тимофей ничего не ответил. Он выбежал из здания, бросил молоток на крыльцо театра, и шёл, шёл, по ночной советской Москве. Теперь в двух шагах от театра не было храма. И в ста, и в тысяче. И клирики все знакомые сидели по ссылкам. Со стен общественных зданий на него смотрели лики жреца Стриги и витязей-разбойников, а где-то под ними были заклеенные лица индийских красавиц, греческих музыкантов и нимф, царей и танцовщиц древней Иудеи.
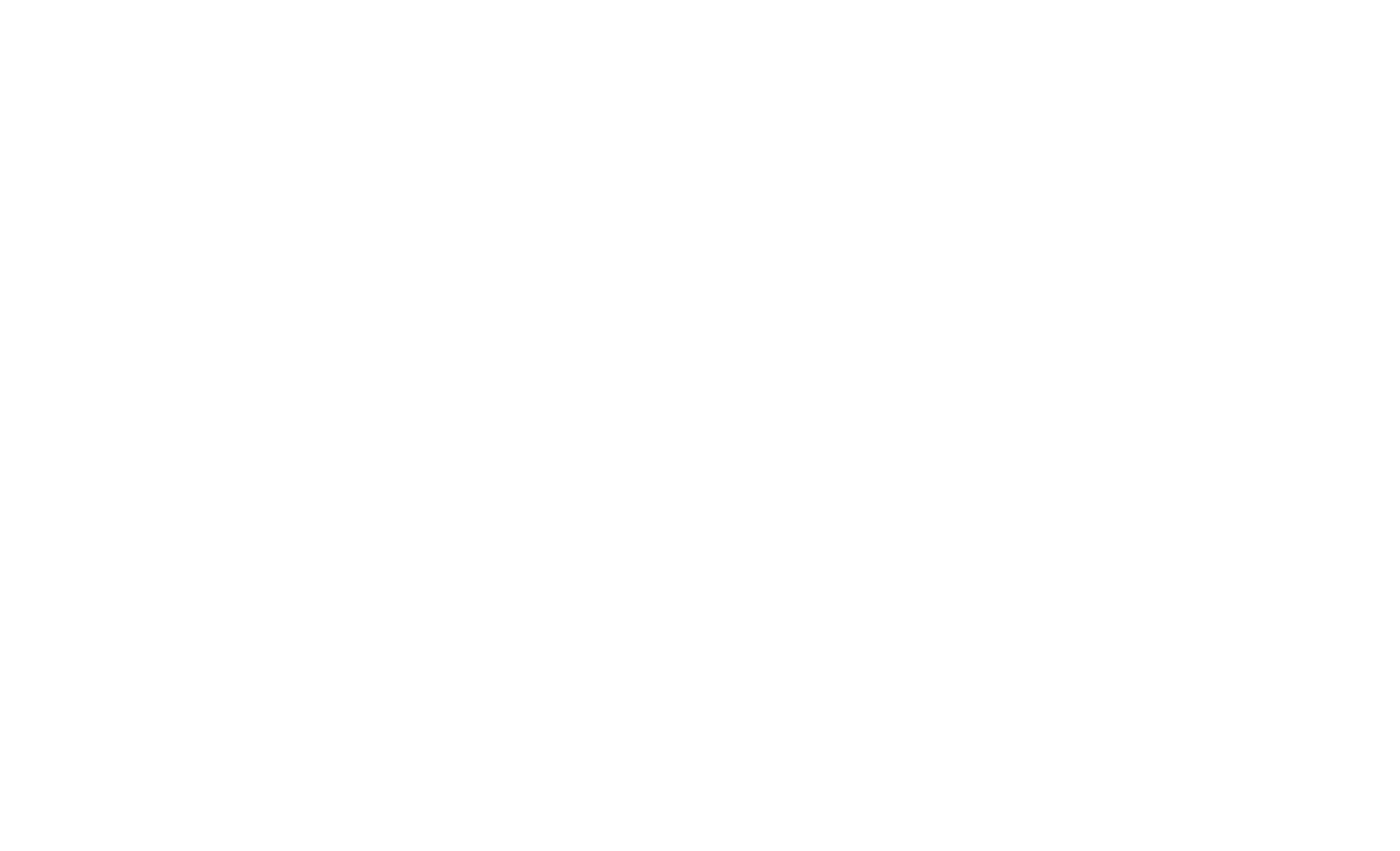
Наши дни
– Какая она была красивая.
– Что есть, то есть, мадмуазель. Вы, кстати, тоже ничаво, чем-то похожи.
Простецкого вида мужичок с короткой седой бородой демонстративно перевёл взгляд с гостьи на портрет актрисы, а потом несколько раз повторил то же действие: зырк-зырк туда-сюда. Разве что легендарной приме театра на фото пошёл четвёртый десяток, а девице было года двадцать три. Ну, и никакого грима жутковатого на лице, в отличие от.
Девушка представилась Полиной. Вела себя вежливо, скромнёхонько, и сторож Фёдорович сразу понял: вряд ли москвичка. Так и оказалось. Приехала две недели назад с Брянщины. Покорять столицу на песенно-актёрском фронте. Ну и в паломничество заодно.
– В общем, сударыня, грустно закончил тот режиссёр. Выжил из ума и скончался в психушке. Говорят, от горя, что Виссарионыч его театр прикрыл после войны.
Сторож, до того стоявший у дверей, присел на скамейку. Рядом со входом были установлены стенды с историей их церкви и театра. Немыслимое соседство для царских времён!
– А за что театр закрыли? – сочувственно спросила девушка.
– Ну, сказали, мол, слишком буржуйское искусство у него. Среди актёров и в поповских кругах разные слухи ходили про настоящую причину. Особняк, в котором театр устроили, на кладбище изначально возведён. Да и пьесы у них жутковатые были временами, чесгря.
Полина поправила тяжёлый рюкзак. Девушка была одета в длинный сарафан с цветочками поверх простых синих джинсов, на голове косынка. Довольно-таки благочестивая – подметил Фёдорович: даже не в храме, а на прихрамовой территории голову покрыла!
– Потом большевики, значит, на месте директорского кабинета сделали, прости великодушно, сортир. И вдова, красотка эта, прокляла советскую власть, и вместе с ней, собсно, Театр Мистерий. Тут он и загнулся окончательно. Спектакли проваливались, актёрам не везло по-всякому. Говорили, что два призрака, муж и жена, бродят в коридорах. Ну, и прочая чертовщина. В девяностые храм вернули, переосвятили, все барабашки и ушли. Хорошо, архитектор известный в тридцатые заступился, так бы само здание снесли. Папа мой, Кондрат Тимофеич, приезжал в семидесятые реставрировать. Потом и я прибился сюда. У нас вообще род простецкий, да что там, непутёвый. А вот ты талант, наверное, да?
Девица, хоть и с южной области, но со светленькой кожей, отчётливо зарделась.
– Ну, я так, в районных конкурсах победила пару раз. Играла там, пела. Вот и храм нашла, где искусство есть, люблю фольклор, сказки.
Сказав это, юная Полина стала рассматривать стенд дальше. Про безумие и проклятия на ярких слайдах, конечно, не писали. Последние из них были посвящены современности.
«После долгих лет запустения и бесплодной борьбы театра и храма было решено – принести на место Оружейной слободы мир и зарыть оружие. Вот уже пять лет по инициативе Молодежного духовного братства действует прихрамовый театр и актовый зал. Там важно показать, что Церковь не отрицает, а дополняет древние традиции народов, наделяя их новым смыслом...»
Рядом с историческим стендом красовались свежие афиши: спектакль «Жизнь Иоанна Крестителя», детский театр теней по греческим мифам, патриотическое реконструкторское шоу «Русские силачи: от былин до олимпиад».
Дядька-охранник замолчал, видимо, давая Полине возможность ознакомиться с репертуаром. На его лице можно было заметить лёгкую печаль.
– Ну ладно, я пошла на собеседование!
С этими словами гостья из провинции очаровательно улыбнулась и летящей походкой в скромных туфлях без каблуков вошла в старую дубовую дверь.
– Какая она была красивая.
– Что есть, то есть, мадмуазель. Вы, кстати, тоже ничаво, чем-то похожи.
Простецкого вида мужичок с короткой седой бородой демонстративно перевёл взгляд с гостьи на портрет актрисы, а потом несколько раз повторил то же действие: зырк-зырк туда-сюда. Разве что легендарной приме театра на фото пошёл четвёртый десяток, а девице было года двадцать три. Ну, и никакого грима жутковатого на лице, в отличие от.
Девушка представилась Полиной. Вела себя вежливо, скромнёхонько, и сторож Фёдорович сразу понял: вряд ли москвичка. Так и оказалось. Приехала две недели назад с Брянщины. Покорять столицу на песенно-актёрском фронте. Ну и в паломничество заодно.
– В общем, сударыня, грустно закончил тот режиссёр. Выжил из ума и скончался в психушке. Говорят, от горя, что Виссарионыч его театр прикрыл после войны.
Сторож, до того стоявший у дверей, присел на скамейку. Рядом со входом были установлены стенды с историей их церкви и театра. Немыслимое соседство для царских времён!
– А за что театр закрыли? – сочувственно спросила девушка.
– Ну, сказали, мол, слишком буржуйское искусство у него. Среди актёров и в поповских кругах разные слухи ходили про настоящую причину. Особняк, в котором театр устроили, на кладбище изначально возведён. Да и пьесы у них жутковатые были временами, чесгря.
Полина поправила тяжёлый рюкзак. Девушка была одета в длинный сарафан с цветочками поверх простых синих джинсов, на голове косынка. Довольно-таки благочестивая – подметил Фёдорович: даже не в храме, а на прихрамовой территории голову покрыла!
– Потом большевики, значит, на месте директорского кабинета сделали, прости великодушно, сортир. И вдова, красотка эта, прокляла советскую власть, и вместе с ней, собсно, Театр Мистерий. Тут он и загнулся окончательно. Спектакли проваливались, актёрам не везло по-всякому. Говорили, что два призрака, муж и жена, бродят в коридорах. Ну, и прочая чертовщина. В девяностые храм вернули, переосвятили, все барабашки и ушли. Хорошо, архитектор известный в тридцатые заступился, так бы само здание снесли. Папа мой, Кондрат Тимофеич, приезжал в семидесятые реставрировать. Потом и я прибился сюда. У нас вообще род простецкий, да что там, непутёвый. А вот ты талант, наверное, да?
Девица, хоть и с южной области, но со светленькой кожей, отчётливо зарделась.
– Ну, я так, в районных конкурсах победила пару раз. Играла там, пела. Вот и храм нашла, где искусство есть, люблю фольклор, сказки.
Сказав это, юная Полина стала рассматривать стенд дальше. Про безумие и проклятия на ярких слайдах, конечно, не писали. Последние из них были посвящены современности.
«После долгих лет запустения и бесплодной борьбы театра и храма было решено – принести на место Оружейной слободы мир и зарыть оружие. Вот уже пять лет по инициативе Молодежного духовного братства действует прихрамовый театр и актовый зал. Там важно показать, что Церковь не отрицает, а дополняет древние традиции народов, наделяя их новым смыслом...»
Рядом с историческим стендом красовались свежие афиши: спектакль «Жизнь Иоанна Крестителя», детский театр теней по греческим мифам, патриотическое реконструкторское шоу «Русские силачи: от былин до олимпиад».
Дядька-охранник замолчал, видимо, давая Полине возможность ознакомиться с репертуаром. На его лице можно было заметить лёгкую печаль.
– Ну ладно, я пошла на собеседование!
С этими словами гостья из провинции очаровательно улыбнулась и летящей походкой в скромных туфлях без каблуков вошла в старую дубовую дверь.
Предыдущий текст:
Запретный документ IV: Красная изнанка красной утопии
Следующий текст:
Уйдёт ли мороз?
Запретный документ IV: Красная изнанка красной утопии
Следующий текст:
Уйдёт ли мороз?
Использованные иллюстрации:
kartinkin.net/uploads/posts/2021-07/thumbs/1625796489_19-kartinkin-com-p-akter-teatra-art-art-krasivo-19.jpg
avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/235144/pub_5d49b8c195aa9f00ad555c0e_5d756113d4f07a00aef68114/scale_1200
https://www.deviantart.com/vityar83/art/Cemetery-1...
https://www.pinterest.co.kr/pin/360428776437197575...
https://www.freepng.ru/png-uv91i7/
commons.wikimedia.org/wiki/File:Cubist_Salome_by_Wilde.jpg
https://vittasim.livejournal.com/176844.html
https://zen.yandex.by/media/id/5ddbbaf536288d3517d...
https://teatrpushkin.ru/en/teatr/istoriya-kamernog...
© All Right Reserved. ПКБ Inc.
kartinkin.net/uploads/posts/2021-07/thumbs/1625796489_19-kartinkin-com-p-akter-teatra-art-art-krasivo-19.jpg
avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/235144/pub_5d49b8c195aa9f00ad555c0e_5d756113d4f07a00aef68114/scale_1200
https://www.deviantart.com/vityar83/art/Cemetery-1...
https://www.pinterest.co.kr/pin/360428776437197575...
https://www.freepng.ru/png-uv91i7/
commons.wikimedia.org/wiki/File:Cubist_Salome_by_Wilde.jpg
https://vittasim.livejournal.com/176844.html
https://zen.yandex.by/media/id/5ddbbaf536288d3517d...
https://teatrpushkin.ru/en/teatr/istoriya-kamernog...
© All Right Reserved. ПКБ Inc.
